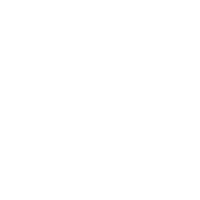
Борский Николай Алексеевич
Дата рождения: 1947 г.
Место рождения: Россия, с. Борское
Окончил Куйбышевский авиационный институт в 1972 году, в Москве окончил Литературный институт в 1981 году. Автор сорока восьми стихотворных сборников. Много публикаций
в антологиях и альманахах, в литературной периодике. В Союзе писателей СССР с 1989 года,
затем в Союзе писателей России. Проживает в Подмосковье.
Место рождения: Россия, с. Борское
Окончил Куйбышевский авиационный институт в 1972 году, в Москве окончил Литературный институт в 1981 году. Автор сорока восьми стихотворных сборников. Много публикаций
в антологиях и альманахах, в литературной периодике. В Союзе писателей СССР с 1989 года,
затем в Союзе писателей России. Проживает в Подмосковье.
Наставник
Памяти В. С. Шефнера
Радушен дом его на Петроградской,
Лишь кабинет с рядами полок строг.
И каждый раз с восторгом и опаской
Переступаю я через порог.
Наставник стар. Он курит сигареты
С названьем «Космос». И, как будто дым,
Просты, прозрачны, медленны ответы,
Что он даёт в беседе нашей с ним.
С морской душой кронштадтского закала
На словеса наставник туговат:
Ни звучных фраз, просящихся в анналы,
Ни диатриб, ни броских эскапад.
Он, как всегда, потом предложит чаю,
И скажет взгляд, а не уста его:
День меркнет ночью, человек – печалью.
Печалью лет – безвыходней всего.
Противовес – стихов и прозы свиток,
Где романтичность юноши видна,
Хоть, как тяжёлый платиновый слиток,
Его волос мерцает седина.
Немного в кубке бытия осталось,
И, как полынь, напиток горек в нём.
Нет средних лет. Есть молодость и старость.
И, словно рана, память о былом,
Когда под утро из блокадной дали
Летит, летит в сон чуткий и скупой
Любимой тень, сестра его печали,
И, улыбаясь, манит за собой.
Памяти В. С. Шефнера
Радушен дом его на Петроградской,
Лишь кабинет с рядами полок строг.
И каждый раз с восторгом и опаской
Переступаю я через порог.
Наставник стар. Он курит сигареты
С названьем «Космос». И, как будто дым,
Просты, прозрачны, медленны ответы,
Что он даёт в беседе нашей с ним.
С морской душой кронштадтского закала
На словеса наставник туговат:
Ни звучных фраз, просящихся в анналы,
Ни диатриб, ни броских эскапад.
Он, как всегда, потом предложит чаю,
И скажет взгляд, а не уста его:
День меркнет ночью, человек – печалью.
Печалью лет – безвыходней всего.
Противовес – стихов и прозы свиток,
Где романтичность юноши видна,
Хоть, как тяжёлый платиновый слиток,
Его волос мерцает седина.
Немного в кубке бытия осталось,
И, как полынь, напиток горек в нём.
Нет средних лет. Есть молодость и старость.
И, словно рана, память о былом,
Когда под утро из блокадной дали
Летит, летит в сон чуткий и скупой
Любимой тень, сестра его печали,
И, улыбаясь, манит за собой.
Петербургский ноктюрн
Я уезжал в последний день зимы,
Где, как рентген, норд-вест гудел с залива
И до утра, примерно до семи,
Как в лихорадке, улицы знобило.
Тревожен был костлявых сучьев стук.
Но, как всегда, с ухваткою привычной
Работал снег, не покладая рук,
И бормотал всю ночь косноязычно.
И обступал, и хлопал по плечу,
За мной бродя ступня в ступню по следу.
И думал я: гордячку проучу –
И без звонка прощального уеду.
Без новой ссоры. Точка. Не могу.
И снег валился миллионом точек,
Штриховкой кроя в сквере на углу
Нагих ветвей линейно-строгий очерк.
Но возникало в них из темноты
Её лицо. И на ветру качалось.
И сквозь метель гравюрные черты
Являли грусть. Растерянность. Усталость.
Так, может, ссор причиной – я один?
Я на снегу инициал рисую.
Светлеет небо с промельком дождин
Страничкой школьной в линию косую.
И в первый день весны, часов с восьми,
Уже спешат вокабулы капели
В глагол воды стремглав перевести
Шептанье вьюги, бормотню метели,
В тетради неба в линиях косых –
В глагол весны зимы косноязычье…
Над Мойкой я под шорох льдин густых
Спешу к такси. Звенит ручей по-птичьи
И по асфальту скачет прямиком,
С разбега тычась под ноги прохожим,
Играя спичкой, пачкой, коробком,
Моим билетом железнодорожным.
Я уезжал в последний день зимы,
Где, как рентген, норд-вест гудел с залива
И до утра, примерно до семи,
Как в лихорадке, улицы знобило.
Тревожен был костлявых сучьев стук.
Но, как всегда, с ухваткою привычной
Работал снег, не покладая рук,
И бормотал всю ночь косноязычно.
И обступал, и хлопал по плечу,
За мной бродя ступня в ступню по следу.
И думал я: гордячку проучу –
И без звонка прощального уеду.
Без новой ссоры. Точка. Не могу.
И снег валился миллионом точек,
Штриховкой кроя в сквере на углу
Нагих ветвей линейно-строгий очерк.
Но возникало в них из темноты
Её лицо. И на ветру качалось.
И сквозь метель гравюрные черты
Являли грусть. Растерянность. Усталость.
Так, может, ссор причиной – я один?
Я на снегу инициал рисую.
Светлеет небо с промельком дождин
Страничкой школьной в линию косую.
И в первый день весны, часов с восьми,
Уже спешат вокабулы капели
В глагол воды стремглав перевести
Шептанье вьюги, бормотню метели,
В тетради неба в линиях косых –
В глагол весны зимы косноязычье…
Над Мойкой я под шорох льдин густых
Спешу к такси. Звенит ручей по-птичьи
И по асфальту скачет прямиком,
С разбега тычась под ноги прохожим,
Играя спичкой, пачкой, коробком,
Моим билетом железнодорожным.
Воспоминание об Исаакиевском соборе
«Под сводами седыя тишины» –
И вслед за сим мечтай о чём угодно.
Мы плотным воздухом молвы окружены,
Хоть в личном плане вроде бы свободны.
Прочёл однажды. Вспыхнуло. Всплыло.
Чтó произвольней музыки и слова,
Когда потёмок чёрное стекло
Скрывает свет пространства мирового?
Религия есть опиум и вред.
Но робок дух, пока сознанье сонно,
Текст гипнотичен, как пифийский бред
От испарений в храме Аполлона.
Привяжется же гулкая строка,
Где классицизм, шедевр де Монферрана –
Архитектура ёмка и строга,
И грандиозна сверху панорама.
Я созерцал подростком-школяром
Великий храм в сиянии весеннем
И знать не знал, что это божий дом,
Прикинувшийся временно музеем.
Тогда молебны были не нужны.
Крестом блестящий купол не венчался.
Под сводами седыя тишины
Длиной в сто метров маятник качался.
На трёх китах поплыли мы потом:
Кому – обманка, а кому лишь мода.
Бог воротился в свой прохладный дом.
А в остальном как будто бы свобода.
«Под сводами седыя тишины» –
И вслед за сим мечтай о чём угодно.
Мы плотным воздухом молвы окружены,
Хоть в личном плане вроде бы свободны.
Прочёл однажды. Вспыхнуло. Всплыло.
Чтó произвольней музыки и слова,
Когда потёмок чёрное стекло
Скрывает свет пространства мирового?
Религия есть опиум и вред.
Но робок дух, пока сознанье сонно,
Текст гипнотичен, как пифийский бред
От испарений в храме Аполлона.
Привяжется же гулкая строка,
Где классицизм, шедевр де Монферрана –
Архитектура ёмка и строга,
И грандиозна сверху панорама.
Я созерцал подростком-школяром
Великий храм в сиянии весеннем
И знать не знал, что это божий дом,
Прикинувшийся временно музеем.
Тогда молебны были не нужны.
Крестом блестящий купол не венчался.
Под сводами седыя тишины
Длиной в сто метров маятник качался.
На трёх китах поплыли мы потом:
Кому – обманка, а кому лишь мода.
Бог воротился в свой прохладный дом.
А в остальном как будто бы свобода.
В лунном сиянии
Невский. Улица Марата. Переулок Колокольный.
Сумрак арки. Двор-колодец. Неба лунного квадрат.
В Питер я, как сумасшедший, мчался из первопрестольной
И к тебе в дверях бросался, нашей новой встрече рад.
А, бывало, в длинной шубке ты меня сама встречала:
Я хватал тебя в охапку и кружил, кружил, кружил.
И твой смех счастливый множил гул Московского вокзала,
А потом снежок весёлый нам на лица порошил.
Много зим с тех пор мелькнуло. Кто в разлуке повинится?
Если я – то без прощенья. Если ты – я без обид.
Всё случилось, как в романсе с тройкой быстрой, словно птица,
Там, где лунное сиянье снег морозный серебрит.
Я стерпел. Не застрелился. Но почти что спился с круга.
А Погудина услышу – по щеке слеза бежит.
У тебя в столичном вузе есть старинная подруга,
Но про жизнь твою сегодня, хоть убей, как сыч, молчит.
Снится мне, что снова еду в Питер, ставший Ленинградом,
Где покров июньской ночи над Невой светло навис
И прозрачным Летним садом я иду с тобою рядом,
А потом в концертном зале нам Олег поёт на бис.
Не навек же эта старость и разлука не навеки!
Я в Москве твоей подруге бормочу стихи навзрыд,
И не вижу и не слышу, что в своей библиотеке
Мне в глаза она смеётся и сквозь зубы говорит:
«Навсегда забудь, как ездил, стихотворец малахольный,
К Маше Рабкиной зимою в славный город Ленинград...»
Невский. Улица Марата. Переулок Колокольный.
Арка. Двор. Этаж четвёртый. Неба лунного квадрат.
Невский. Улица Марата. Переулок Колокольный.
Сумрак арки. Двор-колодец. Неба лунного квадрат.
В Питер я, как сумасшедший, мчался из первопрестольной
И к тебе в дверях бросался, нашей новой встрече рад.
А, бывало, в длинной шубке ты меня сама встречала:
Я хватал тебя в охапку и кружил, кружил, кружил.
И твой смех счастливый множил гул Московского вокзала,
А потом снежок весёлый нам на лица порошил.
Много зим с тех пор мелькнуло. Кто в разлуке повинится?
Если я – то без прощенья. Если ты – я без обид.
Всё случилось, как в романсе с тройкой быстрой, словно птица,
Там, где лунное сиянье снег морозный серебрит.
Я стерпел. Не застрелился. Но почти что спился с круга.
А Погудина услышу – по щеке слеза бежит.
У тебя в столичном вузе есть старинная подруга,
Но про жизнь твою сегодня, хоть убей, как сыч, молчит.
Снится мне, что снова еду в Питер, ставший Ленинградом,
Где покров июньской ночи над Невой светло навис
И прозрачным Летним садом я иду с тобою рядом,
А потом в концертном зале нам Олег поёт на бис.
Не навек же эта старость и разлука не навеки!
Я в Москве твоей подруге бормочу стихи навзрыд,
И не вижу и не слышу, что в своей библиотеке
Мне в глаза она смеётся и сквозь зубы говорит:
«Навсегда забудь, как ездил, стихотворец малахольный,
К Маше Рабкиной зимою в славный город Ленинград...»
Невский. Улица Марата. Переулок Колокольный.
Арка. Двор. Этаж четвёртый. Неба лунного квадрат.
Под знаменем Победы. Поклонение
Какой бы участью бесправной
Меня ни гнули без вины
Лихие хищники страны,
Опоры им не выбить главной –
Моей причастности державной
Ко всем участникам войны.
В моём роду все немца били,
Чтоб не в оковах Русь жила.
А на трудфронте бабы были
И дети: помощь тыла шла –
С пилою на лесоповале,
С иглою в швейной мастерской.
В отрепьях стыли, голодали,
Но планы перевыполняли
Без выходных – в мороз и зной.
В колхоз вставали до рассвета,
Гурьбой тянули плуг след в след.
Приковыляв из сельсовета,
Вздымал костыль над бабкой дед:
– Вынай все денежные схроны
И ни копья не утаи!..
Он даже Фонду обороны
Послал «Георгии» свои.
Десятки лет вверху решали:
Геройским был ли их хомут?
И, наконец, почти сравняли
Небоевой и ратный труд:
Сказал поэт же – все медали
Из одного металла льют.
Отец до вражеского края
Дошёл сквозь сотни стен огня
И в память брата Николая
Назвал рождённого меня.
Под неприступным Ленинградом,
Где бушевал кромешный ад,
Мой дядя пал в кольце блокадном,
Как сообщил в письме комбат.
Портрет. Улыбка. Орден Славы.
Но тех, кто мёртв, не воскресить.
И горше скорби нет отравы,
И дальше надо как-то жить.
Страдала бабушка по сыну,
Пил дед, безногий инвалид.
Во всей России в ту годину
О близких плакали навзрыд.
Такой тогда была Победа
Для городов и деревень…
Лет через семь вояку-деда
Мы схоронили в майский день.
И сколько их лежит – не старых
На мирных кладбищах солдат,
Не помышлявших о наградах
В дни юбилейных громких дат!
Мы помним всех, в войну погибших,
В боях, в неволе и потом
От огнестрельных мук почивших
И под звездой, и под крестом.
Бессмертной памятью и славой
Увенчан должен быть любой –
И возвеличенный державой,
И с незаметною судьбой.
И честь и слава ветеранам,
Сейчас живущим среди нас!
Назло годам, недугам, ранам
Они, как совесть, как наказ
От всех солдат, живых и мёртвых,
Нам, чтоб страну свою хранить,
Чтоб идеалов наших гордых
В любой беде не уронить.
А за границей если будем,
Там растолкуем, не юля,
Каким за ту Победу людям
Была признательна Земля.
И мы, их дети, внучки, внуки,
От плоти – плоть, от крови – кровь,
Целуем сморщенные руки
За их защиту и любовь.
Какой бы участью бесправной
Меня ни гнули без вины
Лихие хищники страны,
Опоры им не выбить главной –
Моей причастности державной
Ко всем участникам войны.
В моём роду все немца били,
Чтоб не в оковах Русь жила.
А на трудфронте бабы были
И дети: помощь тыла шла –
С пилою на лесоповале,
С иглою в швейной мастерской.
В отрепьях стыли, голодали,
Но планы перевыполняли
Без выходных – в мороз и зной.
В колхоз вставали до рассвета,
Гурьбой тянули плуг след в след.
Приковыляв из сельсовета,
Вздымал костыль над бабкой дед:
– Вынай все денежные схроны
И ни копья не утаи!..
Он даже Фонду обороны
Послал «Георгии» свои.
Десятки лет вверху решали:
Геройским был ли их хомут?
И, наконец, почти сравняли
Небоевой и ратный труд:
Сказал поэт же – все медали
Из одного металла льют.
Отец до вражеского края
Дошёл сквозь сотни стен огня
И в память брата Николая
Назвал рождённого меня.
Под неприступным Ленинградом,
Где бушевал кромешный ад,
Мой дядя пал в кольце блокадном,
Как сообщил в письме комбат.
Портрет. Улыбка. Орден Славы.
Но тех, кто мёртв, не воскресить.
И горше скорби нет отравы,
И дальше надо как-то жить.
Страдала бабушка по сыну,
Пил дед, безногий инвалид.
Во всей России в ту годину
О близких плакали навзрыд.
Такой тогда была Победа
Для городов и деревень…
Лет через семь вояку-деда
Мы схоронили в майский день.
И сколько их лежит – не старых
На мирных кладбищах солдат,
Не помышлявших о наградах
В дни юбилейных громких дат!
Мы помним всех, в войну погибших,
В боях, в неволе и потом
От огнестрельных мук почивших
И под звездой, и под крестом.
Бессмертной памятью и славой
Увенчан должен быть любой –
И возвеличенный державой,
И с незаметною судьбой.
И честь и слава ветеранам,
Сейчас живущим среди нас!
Назло годам, недугам, ранам
Они, как совесть, как наказ
От всех солдат, живых и мёртвых,
Нам, чтоб страну свою хранить,
Чтоб идеалов наших гордых
В любой беде не уронить.
А за границей если будем,
Там растолкуем, не юля,
Каким за ту Победу людям
Была признательна Земля.
И мы, их дети, внучки, внуки,
От плоти – плоть, от крови – кровь,
Целуем сморщенные руки
За их защиту и любовь.
ЗВЕНО ВРЕМЁН
Я человек. Глаза, и слух, и слово.
И дело. То есть – прочное звено
Бытийной цепи. И точь-в-точь второго
Создать Вселенной больше не дано.
Из уст в уста мой труд передавая,
Идут года бескрайней чередой,
И крона дуба высится густая
Из жёлудя, посаженного мной.
И круг забот, очерченных судьбою,
Непрост, хотя вполне под силу мне:
В земном пределе я вершу земное,
Не забывая притчу о зерне.
И всё? И это – жизнь и я на свете?
И ничего мне в будущем не жаль?
И за века грядущие в ответе
Не буду я? Тогда зачем печаль,
Что в тех веках мне не родиться снова,
Не продолжать за жизнь неравный бой
Да просто света белого, земного
Не ощущать за гранью роковой?
Всё преходяще, если бы не с л о в о –
Звено времён, откованное мной.
Я человек. Глаза, и слух, и слово.
И дело. То есть – прочное звено
Бытийной цепи. И точь-в-точь второго
Создать Вселенной больше не дано.
Из уст в уста мой труд передавая,
Идут года бескрайней чередой,
И крона дуба высится густая
Из жёлудя, посаженного мной.
И круг забот, очерченных судьбою,
Непрост, хотя вполне под силу мне:
В земном пределе я вершу земное,
Не забывая притчу о зерне.
И всё? И это – жизнь и я на свете?
И ничего мне в будущем не жаль?
И за века грядущие в ответе
Не буду я? Тогда зачем печаль,
Что в тех веках мне не родиться снова,
Не продолжать за жизнь неравный бой
Да просто света белого, земного
Не ощущать за гранью роковой?
Всё преходяще, если бы не с л о в о –
Звено времён, откованное мной.
ПОСЛЕДНИЙ СНЕГ
Явление снега в апреле безмолвно, как вздрог,
Внезапно, как вздох. Впрочем, снег до того непоседлив,
Что лишь на рассвете прохожим бывает вдомёк,
Как он возлежит, украшая пустырь напоследок.
Заметить его – как в себе пробудиться весной.
Что было-то? Что я запомнил на скорую руку?
Пришло, опахнуло, сверкнуло в глаза белизной,
Судьбой назвалось, приведя в эту злую округу.
Так пусть начинается всё с эпилога, финала, конца
Железной зимы: тёмный пригород тянется к свету
Травинками, детством, веснушчато-бледным с лица,
Сиреневой почкой, припухнувшей еле заметно.
Пусть тянется жизнь, словно ветер, под шум-шепоток
На те же круги. Тает пруд у изгиба дороги.
Отволгли пригорки. Цветёт мать-и-мачеха в срок.
Хотя, как всегда, только грустная память в итоге.
Так, может быть, в тягость река неустроенных дней?
Однако богам не в укор моё скромное место
В теченье времён, в незатейливой смене людей
Под сенью окраин, среди буераков окрестных,
Где с каждою лужей роднится любая звезда,
Алмазом светясь ли, стеклянкой блестя незаметной,
Где трудно срасталась душа – и срослась навсегда
С житейскою прозой, с её приземлённостью бедной.
Явление снега в апреле безмолвно, как вздрог,
Внезапно, как вздох. Впрочем, снег до того непоседлив,
Что лишь на рассвете прохожим бывает вдомёк,
Как он возлежит, украшая пустырь напоследок.
Заметить его – как в себе пробудиться весной.
Что было-то? Что я запомнил на скорую руку?
Пришло, опахнуло, сверкнуло в глаза белизной,
Судьбой назвалось, приведя в эту злую округу.
Так пусть начинается всё с эпилога, финала, конца
Железной зимы: тёмный пригород тянется к свету
Травинками, детством, веснушчато-бледным с лица,
Сиреневой почкой, припухнувшей еле заметно.
Пусть тянется жизнь, словно ветер, под шум-шепоток
На те же круги. Тает пруд у изгиба дороги.
Отволгли пригорки. Цветёт мать-и-мачеха в срок.
Хотя, как всегда, только грустная память в итоге.
Так, может быть, в тягость река неустроенных дней?
Однако богам не в укор моё скромное место
В теченье времён, в незатейливой смене людей
Под сенью окраин, среди буераков окрестных,
Где с каждою лужей роднится любая звезда,
Алмазом светясь ли, стеклянкой блестя незаметной,
Где трудно срасталась душа – и срослась навсегда
С житейскою прозой, с её приземлённостью бедной.
МАТВЕЮ. ЖИЗНЬ БОРСКАЯ
И не под силу жизнь порою.
И ночь бессонная страшна.
И гулкой каменной стеною
На душу давит тишина.
Но с детской верой в наше счастье,
Устав от внешней злобы дня,
Со мной живущие в согласье
Спокойно спят вблизи меня.
Как уберечь их в век наш волчий?
Чтó на земле исправлю я –
Воздушных замков жалкий зодчий,
Ловец в зените журавля?
Неспешен в комнате рассветной
Холодный маятника стук.
Всё тяжелее и рельефней –
Два шкафа старых, лампа, стул
Да стол складной. Богатства бремя
Нас, к сожаленью, не гнетёт.
Стучат часы, считают время,
Бесстрастен их железный ход.
И поступь эту в полной мере
Сполна мне вытерпеть дано
До дня, когда в небесной сфере
Душе откроется окно,
До дна – лишь в грёзах знаменитой,
Но, как успел заметить я,
Подобной миске общепита –
Нелёгкой чаши бытия,
Когда с нуждою нету сладу,
Житьё – не в страхе, так в дерьме.
И то уж ладно, что баланду
Не довелось хлебать в тюрьме.
Хотя какие наши силы?
Зловещ Иудин урожай.
Дай срок, буржуйские эдилы
Ещё загонят за Можай.
«Куда ж нам плыть?» Не ждёт ответа
Жена, свой жребий не кляня.
Она да сын, как две планеты
Одной вселенной для меня.
И в их заветном окруженье
Я на любых стальных ветрах
Все пораженья, сокрушенья,
Меня страшащие впотьмах,
Перетерплю, перебедую,
Какой бы ни был чёрный час,
Как Святогор – за твердь земную,
За жизнь семейную держась.
И не под силу жизнь порою.
И ночь бессонная страшна.
И гулкой каменной стеною
На душу давит тишина.
Но с детской верой в наше счастье,
Устав от внешней злобы дня,
Со мной живущие в согласье
Спокойно спят вблизи меня.
Как уберечь их в век наш волчий?
Чтó на земле исправлю я –
Воздушных замков жалкий зодчий,
Ловец в зените журавля?
Неспешен в комнате рассветной
Холодный маятника стук.
Всё тяжелее и рельефней –
Два шкафа старых, лампа, стул
Да стол складной. Богатства бремя
Нас, к сожаленью, не гнетёт.
Стучат часы, считают время,
Бесстрастен их железный ход.
И поступь эту в полной мере
Сполна мне вытерпеть дано
До дня, когда в небесной сфере
Душе откроется окно,
До дна – лишь в грёзах знаменитой,
Но, как успел заметить я,
Подобной миске общепита –
Нелёгкой чаши бытия,
Когда с нуждою нету сладу,
Житьё – не в страхе, так в дерьме.
И то уж ладно, что баланду
Не довелось хлебать в тюрьме.
Хотя какие наши силы?
Зловещ Иудин урожай.
Дай срок, буржуйские эдилы
Ещё загонят за Можай.
«Куда ж нам плыть?» Не ждёт ответа
Жена, свой жребий не кляня.
Она да сын, как две планеты
Одной вселенной для меня.
И в их заветном окруженье
Я на любых стальных ветрах
Все пораженья, сокрушенья,
Меня страшащие впотьмах,
Перетерплю, перебедую,
Какой бы ни был чёрный час,
Как Святогор – за твердь земную,
За жизнь семейную держась.
НОСТАЛЬГИЯ
Поникли кусты от дождливых погод,
Изнанкой одежда малины и клёна.
Но дождь им покоя опять не даёт
И что-то бормочет в окно монотонно.
О жизни моей? Знаю всё о ней сам.
О чём же тогда колобродник полночный
С карниза частит на траве по слогам
И глухо рокочет в трубе водосточной?
Чтоб мне затеряться иголкой в стогу,
Где лета макушка и – всеми не найден,
Где дремлет ивняк на речном берегу
И строчки покоса, как в нотной тетради,
Которые, словно соната, звучат
На тему зачатий, смертей и рождений,
И мне о единстве своём говорят
Содружества звёзд, облаков и растений,
И позже, когда уже летняя прыть
Убавлена и можно видеть, как высью,
Сорвавшись с деревьев, прилежно парить
В тиши обучаются жёлтые листья.
К ладоням устало лицом прислонюсь:
«И это пройдёт…» Ну, так что же, так что же?
Растрава былым и дождливая грусть
Не всё, слава Богу, покуда итожат,
И есть ещё край, где в июльский рассвет
Безлюдьем о путнике грезит дорога –
Светло и с надеждой. Где мне двадцать лет.
Чуть больше, быть может. И всё же немного.
Поникли кусты от дождливых погод,
Изнанкой одежда малины и клёна.
Но дождь им покоя опять не даёт
И что-то бормочет в окно монотонно.
О жизни моей? Знаю всё о ней сам.
О чём же тогда колобродник полночный
С карниза частит на траве по слогам
И глухо рокочет в трубе водосточной?
Чтоб мне затеряться иголкой в стогу,
Где лета макушка и – всеми не найден,
Где дремлет ивняк на речном берегу
И строчки покоса, как в нотной тетради,
Которые, словно соната, звучат
На тему зачатий, смертей и рождений,
И мне о единстве своём говорят
Содружества звёзд, облаков и растений,
И позже, когда уже летняя прыть
Убавлена и можно видеть, как высью,
Сорвавшись с деревьев, прилежно парить
В тиши обучаются жёлтые листья.
К ладоням устало лицом прислонюсь:
«И это пройдёт…» Ну, так что же, так что же?
Растрава былым и дождливая грусть
Не всё, слава Богу, покуда итожат,
И есть ещё край, где в июльский рассвет
Безлюдьем о путнике грезит дорога –
Светло и с надеждой. Где мне двадцать лет.
Чуть больше, быть может. И всё же немного.
МОЙ ПУТЬ
Редеет над поймою клин журавлей
И правит маршрут по сиянью созвездий –
Чуть выше деревьев, чуть выше дождей,
Чуть ниже следов самолётных инверсий.
А мне облаков не достать, не достать
Рукой – а крыла не дал Бог никакого.
Мне землю топтать, на земле прозябать,
Довольствуясь прозой житейского крова,
И кротко терпеть, как прямое родство
Являет мне всё, что живёт не летая.
Но персть ли земная – моё существо,
Пусть даже и доля его основная?
Ведь то, что за вычетом глины простой
Во мне пребывает с мечтою о звёздах,
Пернато подъемлет меня надо мной –
Не то, чтобы в небо, но всё-таки в воздух,
В пространство, где я, не сминая травы,
Не тронув росы в перелесках приречных,
Иду в полный рост, не клоню головы
На минной дороге невзгод человечьих.
Пусть с долей земной я один на один
И сердце, привыкшее к участи тяжкой,
Готовое к свету алмазных вершин,
Привержено насмерть к равнинности чахлой,
Где дрозд заливался, рябины цвели,
А ныне созвездия гроздьев карминных,
Где длится мой путь – чуть повыше земли,
Чуть ниже редеющих стай журавлиных.
Редеет над поймою клин журавлей
И правит маршрут по сиянью созвездий –
Чуть выше деревьев, чуть выше дождей,
Чуть ниже следов самолётных инверсий.
А мне облаков не достать, не достать
Рукой – а крыла не дал Бог никакого.
Мне землю топтать, на земле прозябать,
Довольствуясь прозой житейского крова,
И кротко терпеть, как прямое родство
Являет мне всё, что живёт не летая.
Но персть ли земная – моё существо,
Пусть даже и доля его основная?
Ведь то, что за вычетом глины простой
Во мне пребывает с мечтою о звёздах,
Пернато подъемлет меня надо мной –
Не то, чтобы в небо, но всё-таки в воздух,
В пространство, где я, не сминая травы,
Не тронув росы в перелесках приречных,
Иду в полный рост, не клоню головы
На минной дороге невзгод человечьих.
Пусть с долей земной я один на один
И сердце, привыкшее к участи тяжкой,
Готовое к свету алмазных вершин,
Привержено насмерть к равнинности чахлой,
Где дрозд заливался, рябины цвели,
А ныне созвездия гроздьев карминных,
Где длится мой путь – чуть повыше земли,
Чуть ниже редеющих стай журавлиных.

